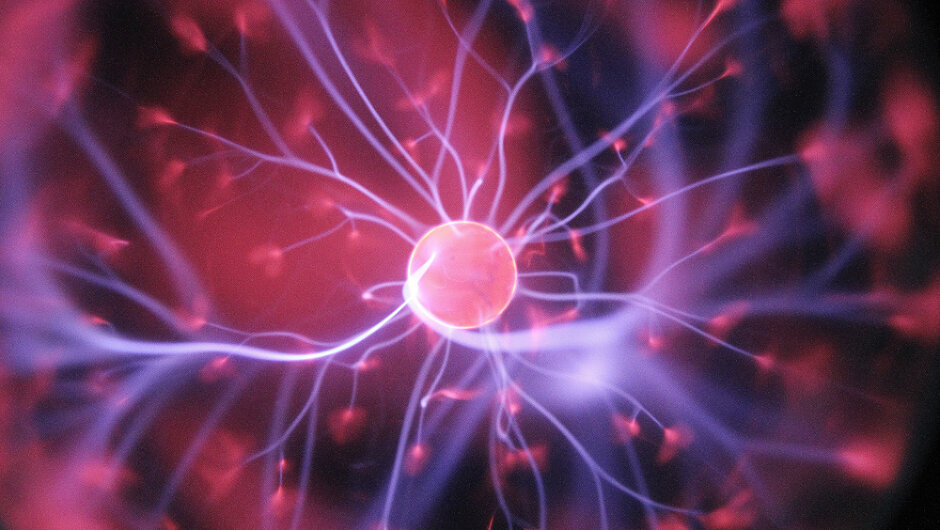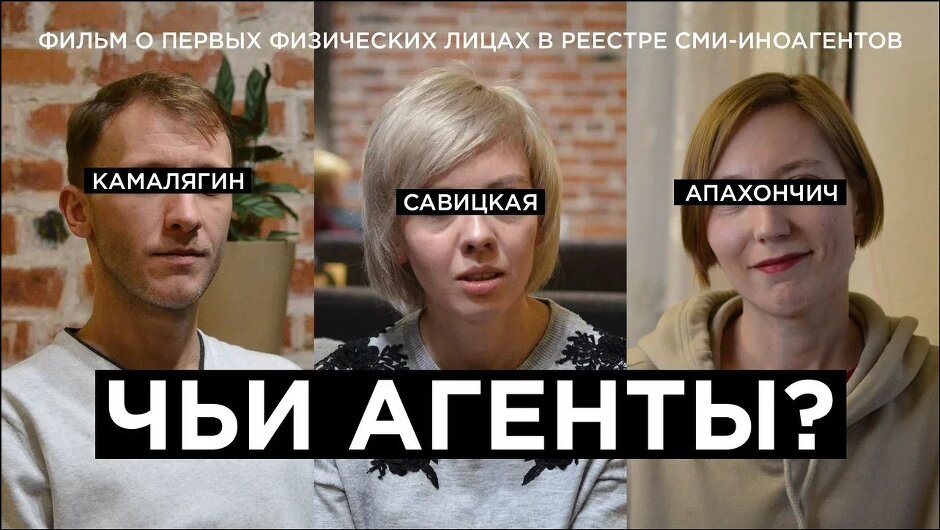Перед началом «Артдокфеста» Наталья Синдеева по традиции встретилась с президентом кинофестиваля — документалистом Виталием Манским. Поговорили о том, каких претензий к программе фестиваля ждут в этом году, почему один из фильмов придется показать в посольстве Чехии и каких фильмов вы никогда не увидите на «Артдокфесте». А также — о новом фильме Манского «В лучах солнца» про Северную Корею, который уже вызвал большой резонанс.
У меня сегодня внеурочная программа «Синдеева». В гостях у меня один из самых, наверно, титулованных российских документалистов ― Виталий Манский. Он уже не первый раз в моей программе. Виталий, привет!
Привет.
На днях стартует «Артдокфест». Собственно, это уже стало какой-то традицией ― с тобой говорить перед «Артдокфестом». В том году мы пропустили…
По уважительной причине.
Да, но я очень рада тебя видеть. Спасибо. Последний раз мы с тобой встречались в квартире с видом на Кремль. Ты тогда сказал: «Вот, может быть, случится, когда мы будем сидеть и смотреть на эту квартиру». Не случилось, мы уехали подальше.
Мы уехали подальше, но, ты знаешь, не зарекаемся. Все-таки мы еще с тобой молодые, у нас достаточно много впереди всего, поэтому как знать.
Все может быть. Смотри, за последние два месяца у меня возникло ощущение, что, знаешь, как говорят, небо разверзлось, и вся реакционная отвратительная, мерзкая какая-то машина рухнула на твою голову. Мне прямо почему-то кажется, что за последние два месяца концентрация была очень высокая.
Вначале ограничили прокат твоего фильма про Северную Корею «В лучах солнца»,
Ты знаешь, я бы сейчас вот, по сути, по окончании проката фильма «В лучах солнца» в Российской Федерации выразил официальную благодарность представителям северокорейского государства, нашему Министерству культуры и всем тем, кто помог нам без копейки денег провести рекламную кампанию картины, потому что мы действительно выходили в прокат в 29 кинотеатрах всего лишь.
Нужно понимать, что в Германии ― под 40 кинотеатров, в Америке и Канаде ― более 50, в Южной Корее ― 150 кинотеатров. И даже в Чехии, где 5 миллионов населения, 22 кинотеатра показывали эту картину. Поэтому у нас был, по сути, не прокат, а такое очень маленькое окошко для встречи со зрителем, которому важно посмотреть эту картину.
Вот эти все государственные институции нам, в конечном счете, подставили плечо, потому что медиа эту историю подхватили. И как-то, мне кажется, люди пришли.
Мне кажется, ты сам себя придумал сейчас как-то успокоить. Подожди, на самом же деле прокат должен был быть другой. Сколько планировалось копий?
Понимаешь, как… Я настолько хорошо, мне кажется, понимаю про нашу страну всё, что эти чудеса для меня чудесами не являются. Вот если бы меня, я не знаю, не выпустили из страны или арестовали бы мои счета ― вот это могло бы меня как-то, может быть, даже не возбудить, а я бы на это обратил внимание.
Всё, что менее этого, я вообще, честно тебе скажу, не замечаю. Потому что я отношусь к происходящему с куда более жесткими оценками. Мне кажется, что на самом деле страна находится в куда более плачевном состоянии, и поэтому она может извергать из себя куда более безумные действия, нежели запрет какого-то фильма, и то такой вялый, невнятный. Что такое запрет?
Вот эти, кстати, северные корейцы не могли в толк взять ― как это так, Россия не может запретить показывать на своей территории какой-то фильм? Как это так? Вы разве не Россия? Эта нота северокорейская звучала практически так: «Мы требуем запретить на территории вашей страны в соответствии с нашими договоренностями показ такого-то фильма. Мы требуем наказать создателей, требуем уничтожить».
В общем, там было целое совещание перед прокатом, на котором было принято такое компромиссное решение: дескать, мы повлияем на то, что государственные и муниципальные кинотеатры фильм показывать не будут, а на частные кинотеатры мы повлиять не можем. И тут корейцы искренне не могли понять, как это так. У вас, что, Путина нет?
У меня два вопроса в связи с этим. С одной стороны, почему же тогда всё равно частные кинотеатры (а их достаточно много, и сетки большие) тоже не вывели это в большой прокат? Что это? Опять та самая самоцензура, не хотелось связываться? Это были намеки?
Нет, Наташа, это комплекс. Это комплекс в том числе… Понятно, что картина в чем-то проблемная, а зачем идти на какие-то проблемы, если ты рядом поставишь беспроблемную картину, которая к тебе стучится с определенным рекламным бюджетом? Какое-то нежелание вступать… Знаешь, вот сейчас я наблюдаю такое повсеместное желание уйти от проблем, спрятаться, уйти в какую-то внутреннюю эмиграцию, в какой-то кокон. И вроде бы все такие правильные, но в действиях это проявляется только в какой-то улыбке и похлопываниях по плечу, поддержке.
Это я знаю.
Ну что, ты там борешься? Давай-давай, мы с тобой.
Это мне знакомо.
Победишь ― о нас не забудь, что мы были. Это общее такое настроение.
И ведь власть тоже посылает сигналы. По итогам «Артдокфеста» прошлого года, который был… У нас «Артдокфест», так получается, с каждым годом набирает обороты и становится по разным позициям…
Чем больше его будут ругать, запрещать и так далее, тем больше это будет набирать, но все равно же это очень ограниченное.
Но по итогам этого ограниченного фестиваля, который прошло всего лишь двадцать с лишним тысяч человек, семь дел в суде, в Хамовническом суде. Семь. Судья, мантия, клетка, «Встать! Суд идет». Семь, каждое по три заседания.
По поводу фильмов, которые были без прокатного удостоверения?
По поводу фильмов, которые якобы были без прокатных удостоверений. Когда я говорю «якобы», я что имею в виду? Эти фильмы были иностранного… это зарубежные фильмы, которые можно было показывать. Я в этом году надлежащим образом ввозил фильмы. То есть я стал оформлять таможенную декларацию на ввоз. Собралась таможня.
Для «Артдокфеста».
Собрались таможенники, говорят: «Первый раз вообще видим такую процедуру. Зачем вам это нужно?». Я говорю: «Извините, вот фильмы, вот, пожалуйста».
То есть сейчас те фильмы, которые будут на «Артдокфесте», прошли правильную процедуру.
Они прошли. Но, знаешь, мы все равно находимся в ситуации абсолютного… То есть сейчас мы предугадываем какие-то возможные претензии для программы этого года. И мы часть картин показываем в этом году в Москве…
В посольстве…
…но не на территории Российской Федерации.
Это просто… Слов нет.
Чтобы они не подпадали вот под эти подзаконные акты, которые из себя извергает Министерство культуры вместо того, чтобы оно занималось, понятно, другими вопросами. Есть фильм, который снял человек на свою камеру в 1991, что ли, году, во время репетиции спектакля Боккаччо в своей квартире. Он смонтировал, видимо, эту картину на кухне. У него никогда не было юридического лица, он по определению не может получить никакого прокатного удостоверения, потому что он кинолюбитель. Однако эта картина очень интересная, очень важная. Эту картину он также выдвинул на профессиональную премию, и профессионалы посчитали… она там прошла до определенного уровня, до второго тура голосования.
Но в этой картине присутствуют сцены… так скажем, откровенные сцены. В принципе, когда-то у нас шли в прокате, я не знаю, и «Империя чувств»…
18+.
Да, 18+, 28+, 48+. Мы в какой-то степени ответственны за площадку, на которой мы показываем. Я не знаю, что там творится в головах этих чиновников. И мы эту картину выводим за рамки, повторюсь, территории Российской Федерации ― на территорию посольства Чехии, чтобы просто в России показать интересную, важную и очень спорную… По этой картине можно много дискутировать, там есть непростые моральные вопросы.
Кстати, картина начинается таким титром ― я его впервые в жизни вижу: «Все участники съемок дали согласие на показ этого фильма». Я думаю: маньерист тоже такой нашелся. А потом ты смотришь картину, и волосы у тебя в какой-то момент действительно становятся дыбом, потому что ты не понимаешь, как люди могли дать согласие.
Правильно ли я понимаю, что на территорию посольства не могут попасть просто люди, купив билеты? То есть это какие-то закрытые показы, то есть это опять ограниченное очень…
Слушай, да вообще всё, что мы делаем, включая канал Дождь, извини, ради бога, извините, дорогие телезрители, но это всё очень ограниченная история. Неограниченные происходят преступления в нашей стране, преступления над культурой, преступления над свободой, преступления над Конституцией, преступления над будущим. Мы этому являемся свидетелями. И мы можем быть молчаливыми свидетелями, а можем пытаться что-то делать. Вот и все.
А вот скажи, пожалуйста, как документалист. Помнишь, мы с тобой в той программе говорили, что сейчас самое крутое время для документалистов, потому что ты фиксируешь историю, да? Вот есть ли у тебя какой-то проект, который фиксирует всё то, что сейчас происходит, кроме наших с тобой разговоров, соцсетей? Нет ли идеи такой?
Сразу после разговора с тобой началась Украина, насколько я помню.
Да.
Буквально через полгода. И я отправился в Украину и в течение года снимал картину о своей семье, которая оказалась разделена этой войной, этой ситуацией. Я снимал во Львове, в Одессе, Киеве, Севастополе, Донецке. Это картина «Родные».
Которая сейчас будет показана.
Кстати сказать, я даже не пытаюсь получить прокатное удостоверение на эту картину. Единственный в России показ состоится на «Артдокфесте». Я позволил себе, учитывая, что это фильм обо мне, о моей семье, о моей маме, в конечном счете, я позволил себе показать эту картину в свой день рождения, 2 декабря. Я буду таким образом… Да, это фильм «Родные», который при всем при том идет сейчас по всему миру. Он уже четыре фестиваля класса А прошел, все главные документальные фестивали, уже вышел в прокат в Латвии.
Скажи, но ты просто вообще не надеешься, что, может, ты сможешь все-таки получить прокатное удостоверение? Или тебе просто надоело, и ты плюнул?
Послушай, мне не дали прокатное удостоверение, не хотели давать фильму о Северной Корее. Не о России, а о Северной Корее. А чтобы дали прокатное удостоверение об Украине? Можно, конечно, потратить…
Ну, я бы тратила. Ты знаешь, я честно тебе скажу, я считаю, что в таких ситуациях нельзя сдавать.
Я его выложу в интернет, я его дам на Дождь.
Кстати, да. Я, например, не посмотрела твой фильм, потому что я не пошла по пиратской копии, понимаешь?
И я тебя приглашаю. Я не помню, какого числа, но на «Артдокфесте» приглашаю на «В лучах солнца». Важно понимать, что я его буду показывать на большом экране, оригинальную версию, то есть картину в реальном звуке, на корейском языке с русскими субтитрами. Конечно, ни на каком компьютере эти детали усмотреть невозможно.
Смотри, на Дожде будет анонс, собственно, всего фестиваля «Артдокфест», я думаю, что там будет точная дата. Но это людям можно прийти и купить билет.
Это просто можно прийти и купить сейчас билет, но я объясняю, почему это нужно сделать на большом экране. И, в принципе, уже просмотр пиратской копии с левым переводом ― это то же самое, что разглядывать репродукции, я не знаю, Эрмитажа в черно-белых газетах.
Понятно. Вот, знаешь, какой у меня еще вопрос возник? Почему для Северной Кореи ― давай по чесноку ― так был важен запрет фильма в России? Жители Северной Кореи все равно фильм не увидят. Они, по идее, должны беспокоиться только о том, что происходит там. Насколько, опять же, чувствуется… вот ты чувствовал в Северной Корее, не знаю, влияние «старшего брата»? Что такое для них мы: Россия, Путин? Объясни мне, насколько вот эта связь между Северной Кореей и Россией остра, сильна?
Ты знаешь, у них в принципе информации о внешнем мире достаточно мало, если не сказать, вообще нет. Поэтому скорее здесь просто чиновники выполняют какие-то данные им указания. Но я вот тут вспоминаю свой опыт работы на Кубе. На Кубе обратил внимание, что информация об Испании, Италии, Канаде (пожалуй, кроме Америки) более-менее сдержанная. Информация о России в официальных медиа ― а других там, собственно, нет ― довольно-таки жесткая. И мне объяснил человек, который работал в Министерстве иностранных дел Кубы. Он сказал: «Испания для нас страна, давно…»...
Россия.
«Испания для нас ― страна капиталистическая изначально, а для Россия для нас ― страна, которая изменила социалистическому выбору и пошла по капиталистическому пути развития. И поэтому она по определению должна нести больше… у нее должно быть для нашего потребителя, нашего зрителя больше проблем, больше конфликтов, чтобы у них не возникало такого условного желания изменить путь развития внутри социалистической Кубы».
Но в Корее… У Кореи Северной, собственно, есть два внешнеполитических партнера ― это Китай и России. Более того, Россия долгие годы была изъята из северокорейского партнерства. Я помню, с каким особым чувством, с каким особым знаком мне показывали, как на этом празднике Ариран, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса, после композиции, которую флажками тысячи людей, двадцать тысяч людей создают из пикселей, после картин Пекина были картины Красной площади, Кремля, которые почти десять лет были изъяты из сценария.
И в этом смысле, я думаю, для них… Вообще они не понимают…
Я хотела понять. Ведь ты же все-таки, даже в таком урезанном виде, общался с людьми. Для них вообще Россия существует? Для них существует это как какой-то старший брат?
Нет, для них не существует старших братьев.
Они знают, кто такой Путин?
Они эгоцентричны, они, так сказать, развернуты внутрь себя. Информационно, повторюсь, у них нет ничего за пределами мира. Внешняя информация, скажем, в газете занимает одну двадцать пятую, и то без фотографий, это сообщения о каких-то…
Но они не понимают в принципе, что из себя представляет современная Россия. Я попытался тебе об этом сказать в контексте конфликта с прокатом фильма. Они считают, что Россия вернулась обратно в советское прошлое. Они считают, что Россия сегодня ― это то же самое, что Северная Корея. И поэтому они как бы считают Россию равной себе страной. Они считают, что можно… Как, знаешь, два коммуниста или два националиста могут спокойно поговорить о евреях, не боясь ничего, что они думают. Между собой-то мы можем сказать?
А у них это недавно, вот как ты понимаешь, появилось это чувство вообще?
Это произошло, мне кажется, где-то после возвращения Путина.
Вот когда уже…
Да. Послемедведевское возвращение Путина. Оно же было во многом сопряжено и с началом если не культа, то определенного, так сказать, уже фундаментализма в определении нашего национального лидера. Путин ― это Россия, Россия ― это Путин. Это все им понятно.
Но опять, это на уровне опять же чиновников, которые…
Другие не имеют никакой информации.
Вот вообще они не понимают?
Вот знаешь, я в посольстве российском смотрел подшивку газет. Там две-три газеты в столице, есть какие-то региональные. Вот я смотрел подшивку. Ее так перелистываешь, и такое ощущение, как аттракцион: ты газету перелистываешь, а она остается на месте. Потому что все газеты в течение года сделаны по одному лекалу.
Собственно, что это такое? Первый лист… Кто постарше, помнит советские газеты, четырехлистные, не вот эти толстые «Коммерсанты», а четыре листочка. Так вот, первый лист ― это большой портрет вождя с небольшим текстом. Переворачиваешь ― это четыре портрета вождя, уже такие поясные, там уже может стоять кто-то рядом. Третий лист ― это восемь портретов вождя в группе. И последний лист, черно-белый уже, потому что там цветные ― это фотографии о каких-то свершениях, передовики. И в углу маленький такой квадратик.
Международная панорама.
В советских газетах это были некрологи, как правило. Там тоже в такой черной рамочке информация из мира. Так вот, Россия из мира (кстати, и Китай из мира). Там, когда смотришь телевизор, вообще нет мира. Хотя там могут быть Олимпийские игры, да, я же был во время Олимпиады. Там могут быть Олимпийские игры, но без какой-либо социализации, то есть только соревнования. Если уже какой-то автомобиль или какая-то гостиница, какой-то ивент, он уже вырезается.
Или там довольно-таки популярные всякие travel и animal. Но опять же, только до момента социализации. Пока прыгают какие-то зверюшки, они могут это смотреть. Как только появляется гостиница или город, это изымается. Я видел фильм, который я знаю…
Виталий, я всё равно не понимаю. Скажи мне, верхушка номенклатурная, то же Министерство культуры северокорейское ― а у них-то есть информация про то, что у нас? Они-то обладают каким-то окном сюда?
Прежде всего нужно ответить честно, что я не знаю.
Вот ты не понял этого, да?
Потому что люди, с которыми там… с какими-то руководителями, с которыми ты общался, они говорят практически какими-то слоганами. Проникнуть и что-то такое почувствовать про них невозможно, потому что они говорят, они понимают, что рядом есть люди, которые слушают, что они говорят.
Записывают.
И как-то это всё сужается. Понимаешь, к своему стыду, наверно, я действительно провел там два месяца с копейками, но я, кроме той квартиры, в которую нас завели, больше ни в каких квартирах не был. Нам нельзя было ни на этаж выше подняться, ни на этаж ниже.
А что происходило? Вот ты рассказывал о том, что вам все-таки удавалось пару раз сбежать от своих сопровождающих. Вы убегали в город. Мой первый вопрос: как вас находили? Если я правильно понимаю, нет мобильной связи, нет интернета. Как они находили?
Это вопрос.
Везде стоят камеры, и за вами следят, как в фильме?
Нет, точно камеры там не стоят. Я не могу понять, но нас находили.
Я прежде всего расскажу, как мы сбегали. Вот гостиница, там есть кафе, в которое можно зайти и с улицы, и с холла. Мы, значит, заранее договаривались, что кто-то остается с нашими сопровождающими в холле, стоит, а мы вдвоем заходим в гостиницу, то есть в кафе. Мы зашли в кафе и договариваемся: вот мы там проезжали на машине, там встречаемся. Мы туда через этот выход убегаем.
Вдвоем?
Вдвоем, вдвоем. Два человека либо уже не могут убежать, либо сопровождающие ― какое-то время нас нет ― заходят в кафе, нас нет, они поднимают полундру. А эти в это время через главный вход, мы там встречаемся. Самое большое время, когда мы были без сопровождающих, ― наверно, 30–35 минут.
До чего успевали добежать?
До вокзала добегали.
А как на вас реагировали люди? Вот если, условно, вы бежали, вокруг вас корейцы.
Нет, мы не то что бежали-бежали. Мы так быстро шли, я бы сказал.
Ну, быстро шли. Обращают внимание? Может быть, они сразу начинают…
С удивлением и опасением, потому что знают, что иностранцы ходят всегда в сопровождении. Я думаю, что, может быть, они как-то и сообщали. Но опять же мобильных нет, как это происходило буквально…
То есть и мобильных у ваших сопровождающих тоже нет?
Нет, у одного нашего сопровождающего был мобильный. Он постоянно по нему звонил, куда ― непонятно. Вот. Но что интересно, когда нас находили, нам говорили: «Ну куда же вы?».
То есть не ругались.
Нет-нет, говорили: «Ну вы же заблудитесь! Что же вы, дети малые, делаете?». Мы говорили: «Мы хотим…». А они: «Нет-нет, мы же вам всё покажем. Что вы хотите?». ― «Мы хотим то-то». ― «А туда нельзя». ― «А мы…». ― «А туда не надо. Вы скажите, мы запишем список и буквально на днях вам ответим».
Был интересный эпизод, ты рассказывал, что вы ехали в метро и за время съемки не успели…
Это жесть, Наташа. Просто… слушай, это, вообще говоря… Я сейчас рассказываю и думаю: может быть, мне это приснилось всё? Потому что такого не бывает.
Вот и расскажи, потому что мне кажется, что такого не бывает.
Мы действительно… у нас был эпизод в метро. Известная история, что там иностранцы могут проехать три станции метро, все остальные являются государственной тайной. Мы проехали эти три станции. А там получилось, что… я даже скажу. Мы когда стали снимать, зашли с камерой в метро, там какое-то напряжение у ламп. Короче, у нас камера стала мигать. Оператор говорит: «Мы не можем работать». Пока они что-то настраивали, мы проехали эти станции и ничего не сняли!
Нам говорят: «Все, выходим». Я же тоже про них уже понимаю: мы выйдем и никогда больше в метро ничего не снимем. Я говорю: «Нет, мы не можем». И начинается вот это препирательство. Метро, центр города стоит. Мы разбираемся пять минут, десять минут, двадцать. Никто не выходит из вагонов.
А, то есть вы вышли стоять на станции, а люди…
(00:27:43) Нет-нет, если мы вышли, оно бы уехало. Я знаю, я не выхожу из вагона. Я стою в вагоне. Все сидят, поезд никуда не едет. Двадцать минут, тридцать минут. В конечном счете они понимают, что я не выйду. Они говорят: «Окей, хорошо. Надо еще снять? Снимем вагон, который идет в обратную сторону. Вы не можете проехать четвертую станцию. Но вот сейчас зайдем сюда».
Я тут хватаюсь, как за соломинку, говорю: «Видите, ну мы же чуть-чуть уже сняли! И мы не можем, там уже другие люди, другие лица, это все будет намонтажено» ― говорю я в надежде на что-то такое…
Надеясь, что тебя все-таки туда отправят, да?
На какое-то чудо. Они говорят: «Так это вообще не проблема». И весь вагон переходит, весь встает.
Подожди, они объявляют это громко. Я пыталась это… Что он говорит?
Он говорит по-корейски: «Встали, перешли». Там никто особо не церемонится. Встали, перешли. И все встали и перешли. И мы поехали три станции в обратную сторону.
И ты не знаешь, были ли эти люди специально посажены в это метро, которые ехали, или это были действительно люди…
Я тебе скажу, у нас очень мало было локаций, связанных с какими-то реальными объектами в городе. Когда мы снимали вход в метро, значит, мы увидели, что привезли на автобусе тех, кого мы должны были снимать. Они были все нарядно одеты, детишки, трали-вали. А метро, вот эта площадь, она была перекрыта таким… ну как сказать, когда футбольные матчи проходят, таким ограждением. И они не полностью перекрыли, они как бы осуществляли определенный фейс-контроль, то есть кто прилично одет, тех впускали в зону съемок, а кто, скажем, шел с какими-то сумками или в какой-то грязной робе, тех не пускали.
Я увидел, недалеко от меня. Знаешь, они стояли очень деликатно, эти люди в таких синих костюмчиках. Они не то чтобы за руки держались, они стояли. И вот идет дедушка с какой-то коробкой. Он смотрит на землю. И вот он идет-идет-идет, и впереди перед ним оказывается человек. Человек вот так вот руку поворачивает, вот этой стороной. Дедушка видит повернутую руку.
Просто руку.
Просто руку повернутую. И не поднимает голову, а просто разворачивается на 180 градусов и с этой коробкой идет в обратную сторону.
Я живу на Тверской в Москве и часто попадаю в ситуацию на Тверской этих, так сказать, праздников имени мэра Москвы. Хожу без паспорта, там перекрывают движение, и я знаю, что мне, чтобы пройти к моему дому, нужно… И я подхожу, естественно, и говорю: «Я живу тут, в двенадцатом доме. А сколько еще будет у вас репетиция? А можно как-то?». То есть я вступаю в какую-то коммуникацию.
Никакой коммуникации, повернули руку ― 180 градусов, в обратном направлении, куда ― непонятно.
Смотри, ты же общался еще с северными корейцами, которые сбежали в Южную Корею или еще куда-то. Ты же тоже с ними общался.
Да.
Ты можешь… Вообще что ты понял про этот народ? Ты вообще смог что-то понять или это совсем закрыто?
Прежде всего корейцы, японцы… Я много был в Японии, сейчас, кстати, в Японии картина выходит в прокат, сразу после «Артдока», на следующий день вылетаю на промо. Это, конечно, еще и некая определенная ментальность. Эти чудеса, которые произошли в Северной Корее, во многом замешаны на культуре. Люди, которые приезжают, скажем, в Южную Корею… Я не знаю…
Они меняются? Происходит трансформация какая-то?
Они меняются, но не быстро. Более того, я даже знаю, что есть пара случаев, когда люди попросились назад, в Северную Корею.
А что с ними потом происходило?
Я еще знаю такую страшную статистику, что процент самоубийств среди беженцев из Северной Кореи в Южную Корею больше, чем в среднем по стране.
То есть не могут адаптироваться.
Это очень сложно. При том, что Южная Корея ― тоже такая страна особенная. Я как недавно был в Южной Корее, в разгар этого кризиса президентского. Ведь там президент, которого выбрали с очень большим перевесом. Я помню первую поездку, какую к ней испытывали любовь и пиетет, она дочка их любимого президента и так далее. Ее практически снесли с президентского престола не за какие-то яхты «Святая Ольга», а просто за то, что она советовалась со своей подругой, что надевать на тот или иной прием, как правильно выстроить свою речь на том или ином мероприятии, какое мероприятие посетить, а какое игнорировать.
Конечно, это нехорошо, но по сравнению даже с Россией ― это просто детский лепет.
Я тебе скажу про Южную Корею. Я первый раз туда приехал на промо картины при том, что у меня там в прокат уже выходила картина о Далай-Ламе, но не суть. И я давал в день, наверно, по 10–15 интервью. И вот что меня удивило по-настоящему. Приходит журналист, берет интервью, притом из серьезных изданий. Он задает вопрос, ты на него отвечаешь. И вне зависимости от того, что ты и как ответил, он задаст следующий вопрос ровно по своему плану.
То есть такого диалога, как с любым российским коллегой, журналистом, когда ты видишь, что он понимает, подстраивается, уточняет, как бы ведет дискуссию по-живому, нет. Я не знаю, кто им там утверждает эти вопросники, но это очень заметно. Еще когда одно, два, три, как-то не обращаешь внимания. А когда пять кряду!
Хорошо, давай еще вот так спрошу. Скажи, как ты считаешь, представим, что что-то случилось. Не знаю, катастрофа ли, не знаю, что там. Этот народ может переродиться?
Нет.
Смотри, тебя обвиняли, в том числе когда запрещали к прокату, и, собственно, в чем тебя обвиняли оппоненты здесь, ― в том, что ты своими, условно, несанкционированными съемками подставил людей, которые принимали участие в твоем фильме. Учитывая все обстоятельства Северной Кореи, ты их подверг риску.
Вот это опять же. Могли убить?
Могли убить. Их могли убить и в связи со съемками фильма, и без связи со съемками фильма. Это страна, где отсутствует закон вообще. Поэтому ты никак не можешь повлиять на это в принципе. Вопрос только в том, снимать этот фильм или не снимать. Нет фильма, снятого в Северной Корее, который понравится северокорейским властям, не существует по определению.
Но не потому что мы такие хорошие или я такой благородный, а по факту исключительно северокорейское правительство приняло решение героев фильма превратить в инструмент контрпропаганды. Наша героиня и ее семья, соответственно, стала символом абсолютного северокорейского счастья. Нашей Ли Джин-ми поручили вручить цветы лидеру нации на закрытии Съезда партии, который впервые прошел в Пхеньяне за тридцать последних лет. Ее фотографии теперь украшают все школы Северной Кореи, но наш фильм и я к этому не имеем никакого отношения. Все могло быть и ровно наоборот.
Скажи, ты говоришь «могли убить». Ты это опять же видел, чувствовал в воздухе или ты понимал, что там убивают людей? То есть как ты это понимал? Они же тоже вряд ли тебе бы об этом рассказывали.
Ты знаешь, в интернете ходила эта история про расстрелянный женский музыкальный коллектив. Дело в том, что когда я приехал первый раз на ресерч, этот женский коллектив крутили беспрерывно по телевидению или по видео в гостиницах. Он был постоянно на виду. Это были молодые кореянки, которые были одеты не в военную форму, а в такие разноцветные костюмы. Они были в юбках чуть ниже колена, играли какие-то импровизации на тему Моцарта. В общем, такие вот вещи, совершенно запредельные вещи они делали для северокорейского, так сказать.
И когда мы уже приехали снимать через девять месяцев, их не было нигде. И я спросил у наших сопровождающих: «А где эти вот музыканты?». Тогда еще не было информации, что их…
А, просто ты не знал.
Да, потом она появилась. Я говорю: «Где эти девушки-то, которые играют». Мне говорят: «Какие девушки?». ― «Как какие? Мы же с вами смотрели». ― «Ничего мы не смотрели».
Скажи, а самим страшно было? Понимаешь, фактов нет, в воздухе все это витает. Был момент, когда страшно за съемочную группу и за себя? То есть могли ли с вами что-то сделать?
Ты знаешь, я тебе скажу. Меня иногда спрашивают где-то за рубежом, страшно ли мне что-то делать в России, тот же «Артдокфест» проводить. «Как вы можете? Как вы не боитесь?». После Северной Кореи я не боюсь вообще ничего, но в Северной Корее мне было страшно.
Вот страшно от чего?
Более того, я тебе скажу, даже не просто страшно, а жутко, ужасно. Это был не страх, это был ужас, которым было пропитано всё, включая воздух. Потому что, наверно, где-то через неделю нашего там пребывания ― сейчас даже как-то неловко об этом говорить ― мы стали на ночь баррикадироваться в номерах. Мы каждую ночь стали из мебели выстраивать баррикады, чтобы к нам не могли войти в номер. У нас группа была, два парня и две девушки, и девушки не хотели уходить к себе к номер, хотя, в общем, в номере парней… Потому что мы все хотели, знаешь, прижаться друг к другу, просто плечом к плечу, и спать сидя.
Хотя никаких фактов, ничего не было.
Никаких фактов, ничего абсолютно.
То есть это то, что входит…
Абсолютно, в том и дело. По факту все прекрасно.
Северокорейцы, хоть они и другие, то же самое испытывают, и поэтому ты считаешь, что этот народ никогда не переродится?
Прежде всего этот народ родился в ситуации, когда всё, что с ними происходит и их окружает, для них не только абсолютно естественно, а единственно возможное.
Знаешь, мне в свое время рассказывала дрессировщик диких животных, что главное в дрессуре животного ― чтобы оно не знало, что оно сильнее человека. То есть он рождается в неволе, вот этот тигренок, и ему никогда не дают понять, что он сильнее. Он всегда подавлен, и поэтому он в принципе с гривой, с зубами, может рыкнуть, но он просто не знает, что он лев.
Вот эти люди не знают, что они люди. Они вообще не знают, что они родились свободными людьми. Почему мы снимали восьмилетнюю девочку? Потому что уже к восьми годам…
Она не знает.
…человек уже теряет свободу.
А детей маленьких вы видели? Вот как раз дети, которые непосредственные.
Мы видели этих маленьких непосредственных детей, которые уже не непосредственные. Мы видели, мы провели много времени, и я даже снимал, но в картину не вошло. Я снимал вот этот знаменитый ансамбль гитаристов. Все, кто хоть сколько-нибудь интересуется Северной Кореей, безусловно, видели миллионные просмотры на ютубе. Четыре гитариста маленьких, которые меньше гитар.
А, я видела, да-да-да.
И они, значит, играют. Вот я снимал этих гитаристов. Знаешь, я человек, в принципе, жесткий, циничный и малоэмоциональный, но я плакал.
А по сколько им?
Три-четыре года.
Всё, уже машины?
Они ничего, кроме этих гитар, в своей жизни не видели. Ничего, кроме этих гитар в этой холодной неотапливаемой комнате, в которой они проводят, наверно, 18 часов из 24, ничего больше в этой жизни они не видели.
«Артдокфест». Смотри, вы получаете большое количество работ на конкурс, отсматриваете их. Понятно, что документалисты, наверно, достаточно остро чувствуют дух времени, настроение. «Артдокфест» этого года ― он с каким настроением?
Ты знаешь, прежде всего, когда мы делаем «Артдокфест», мы же перемалываем огромный объем картин. Прежде чем выбрать 150 фильмов, которые в конечном счете показываются на фестивале, мы смотрим под 2 тысячи в среднем. Поэтому я вижу, что происходит в среде документалистов не только по тому, что видит зритель в выбранных фильмах. Вот этот невошедший основной объем, конечно, дает понимание процесса, и этот процесс малооптимистичен.
В принципе, я вижу, как документалисты, которые еще в прошлом, позапрошлом году были в диапазоне от злости до растерянности, теперь в целом находятся в диапазоне от растерянности до встраиваемости.
Встраиваемость?
Пошел достаточно большой объем картин, условно назовем, идеологии «Уралвагонзавода». Этого раньше не больше. Все-таки документалист, художник, автор как-то стеснялся такого.
Быть конъюнктурным.
Да. Сейчас конъюнктуры стало значительно больше. Я бы уже даже сказал, опасно больше.
В самом «Артдокфесте» этих фильмов вы не увидите. Мы, кстати сказать, очень серьезно с программерами обсуждали: а может быть, стоит эти фильмы ввести в программу? Может быть, сделать какую-то специальную программу, где показать эти картины? Но мы не нашли правильный контекст. Вот на телевидении, мне кажется, может быть, правильно под каким-то углом это кино показать, его обсудить, а на фестивале…
Одним словом, мы на это не решились, но в этом направлении есть, вообще говоря, такие феноменальные чудеса, как фильм, который мы до последнего думали показать, фильм Некрасова о Магнитском. Андрей Некрасов ― очень серьезный режиссер. Но когда я посмотрел его фильм и почитал, что он говорит, я вижу, что он лукавит, сильно лукавит, что это изначальное решение ― делать картину, разоблачающую, с его точки зрения, и Браудера, и Магнитского, и всю эту историю.
Именно ты понял, что он лукавит?
Абсолютно.
То есть это не искреннее его…
Абсолютно.
И поэтому ты не поставил? Не потому, что она отражает…
Ты знаешь, я скажу честно. Я даже с ним разговаривал, мы договорились, что мы поставим картину при условии, если будет дискуссия. Мы хотели сделать дискуссию один на один, то есть я готов был с ним один на один по этому фильму, но меня убедили мои коллеги. Они сказали: «Ты поставишь картину, потому что он пообещает, что приедет на дискуссию. Он в последний день тебе напишет, что по уважительной причине он приехать не может. И ты останешься один на один с фильмом, который, по сути, ложь».
Но это было бы интересно.
Интересно всё же обсуждать. Мне интересно действительно поговорить с людьми, которых я лично знаю. Я знаю людей, которые всегда были, условно говоря, «крымнаш». И я их уважаю за их позицию, она всегда была таковой. Я знаю людей, которые не были «крымнаш», которые на моих глазах становятся таковыми. Вот это очень…
Это тенденция, которую ты заметил.
Да. Кстати сказать, мы же в этом году взяли в конкурс картину, которая абсолютно, так скажем, идеологически противоречит моим взглядам, моим представлениям о добре и зле. Это фильм «Ладан-навигатор». Потому что я точно знаю, что автор этого фильма, Александр Куприн, делал искреннее кино, он в этой картине выражал свою искреннюю, абсолютно фундаментальную точку зрения, которую он пронес через всю свою жизнь. И он сделал это талантливо.
«Артдокфест» ― это не фестиваль какой-то одной точки зрения. Это фестиваль, который представляет все талантливые точки зрения. И коль скоро появился такой фильм, мы безоговорочно тут же приняли решение включить его в конкурсную программу. Но таких фильмов мало, потому что неискреннее кино, как правило, неталантливое. Но его становится все больше.
Что ты порекомендуешь обязательно посмотреть и о чем ты хочешь еще рассказать?
Ты знаешь, с одной стороны, главная программа любого фестиваля ― конкурсная программа. Но я вот сейчас, когда ехал к тебе на встречу, посмотрел на продажи в «Каро». И я вижу, что уж точно, если зритель придет перед сеансом, он билет не купит, потому что уже больше половины зала на все показы продано, а на некоторые уже и зал продан.
Но я бы посоветовал походить на повторные показы, они там утром стоят, и посмотреть… Слушай, это странная штука. Конечно, я посоветую взять отгул с 1 по 9.
Но это невозможно, в том-то и дело, понимаешь?
Я, кстати, вижу, ― ведь мы уже десятый год проводим фестиваль, ― что есть зрители, которые приходят утром и покупают билеты сеанс за сеансом, они проводят день, переходя из зала в зал и, в общем, выстраивают в течение дня какую-то свою достаточно непростую программу, у них помещается семь-восемь фильмов. Это такой серьезный удар, белковый удар по организму, но, может быть, это лучше, чем приезжать на отдельные фильмы в течение недели. Москва, метро, зима, дорога до кинотеатра. Тем более что у нас в конце каждого дня будет встреча с авторами и героями фильма за чашкой чая с обсуждениями, уходящими, как правило, заполночь.
Я думаю, что в первую очередь я бы смотрел те фильмы, которые, кроме «Артдокфеста», нигде невозможно больше в России посмотреть. Это, как правило, зарубежные фильмы. Российские фильмы, я думаю, так или иначе, как трава сквозь асфальт…
Прорастут.
Пробьются. Не просто, но они как-то пробиваются. В конечном счете, может быть, через год появляются в сети или на Дожде перед «Артдокфестом».
Я все равно скажу про фильм, который сделала Вера Кричевская с Мишей Фишманом, который, собственно, о Борисе Немцове.
Слушай, можно не говорить, уже почти зал весь продан.
Да, я знаю уже, но все равно стоит обратить на это внимание.
Да, мы покажем в большом зале. Наверно, самый большой зал Москвы, этот, в «Октябре»? Там 1500 мест.
Не самый, но большой, да.
Это действительно очень важная картина.
Ты уже посмотрел ее?
Ну естественно. Мне Вера прислала, и я в офисе, пришел на работу, так включил, думаю: «Сейчас пару минут, у меня же там вагон дел». Я два часа сидел, у меня там люди, звонки, я не мог оторваться, потому что она просто засасывает абсолютно. Ты ведь не видела ее еще?
Нет, не видела. Пойду 3 декабря.
3 декабря приходи. Я не знаю, как ее будут смотреть за рубежами нашей прекрасной Родины. Может быть, эти все: приватизация, «семибанкирщина», «Связьинвест» ― это что-то такое… Особенно когда ты понимаешь, что это ведь фильм о том, как мы могли бы жить, если бы Боря все-таки стал преемником. Это в каждой склейке этой картины, и каждый раз какие-то удивительные детали, какие-то случайности его уводят от этой его судьбы.
Понятно, куда они приводят в конечном счете. Но тебе кажется: это же такая ерунда! Чапаев выплывет, мы все знаем, он должен выплыть! И ты два часа смотришь этот фильм. В общем…
Я приглашаю всех на «Артдокфест» с 1 по 9 декабря. Ищите программу, она есть и на сайте Дождя, Денис Катаев будет делать большой обзор. Сейчас мы показываем фильмы из программы прошлого года.
Да просто пишите мне в личку на фейсбуке! Я вообще во время фестиваля отвечаю сотням людей, что идти смотреть. Я в этом смысле абсолютно не пафосный парень. Просто приходите, пообщаемся.
Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Я желаю удачи.